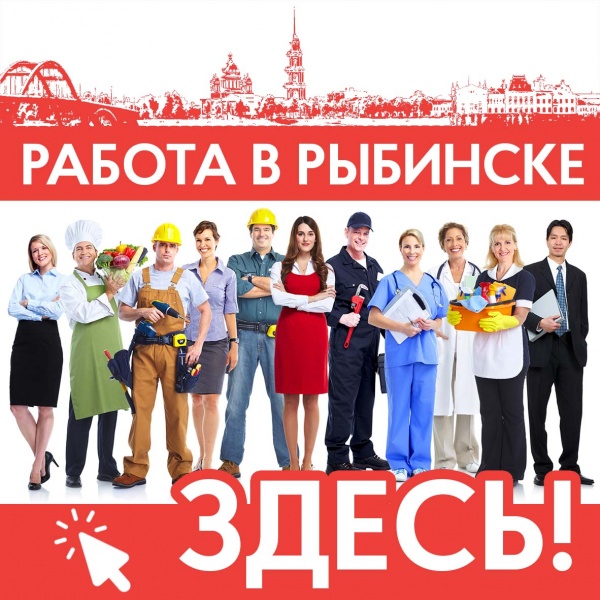Человек «большого стиля»
Историки не слишком жалуют юбилеи. Но, кажется, отмечаемому в 2012 году 150-летию со дня рождения Петра Аркадьевича Столыпина повезло в этом отношении: его образ обретает новое общественно-политическое значение, начинает восприниматься как символ надежды. Осмысление деятельности премьер-министра, его богатого наследия способно сыграть роль «точки сборки» для расщепленного национального сознания. Личность Столыпина — из числа тех, которые достойны быть не только интеллектуальными, но прежде всего нравственными ориентирами. А много ли в нашей исторической галерее героев, относительно которых возможно согласие общества?
Обращение к столыпинскому опыту может быть мерой социальной терапии как общественной апатии, так и нездорового возбуждения, но предпочтительнее, чтобы этот опыт стал платформой интеграции гражданского общества и здоровых административных сил. Ведь «болярин Петр» своей жизнью и смертью доказал, что политика — далеко не всегда «грязное дело», что возможно эффективно решать повседневные вопросы государственного управления, оставаясь верным высшим ценностям и христианскому выбору. Одно из известных высказываний П. А. Столыпина раскрывает его как идеалиста, твердо и последовательно проводящего в жизнь принципы, в правоте которых он был убежден: «Правительство, которое имеет убеждение, имеет идеалы, не только верит в то, что делает, оно делает то, во что верит».
Сегодня труды «последнего витязя» исторической имперской государственности России только начинают открываться нам во всей своей многогранности. Можно сказать, что почти у каждого, пишущего о великом реформаторе, — свой Столыпин. Для автора данных строк он — прежде всего образец христианского политика и рыцарь культуры. Экономическая программа Столыпина не приложима полностью к изменившимся российским условиям, но его живой образ способен служить вдохновляющим примером, а главный принцип — раскрепощение творческого, деятельного начала в человеке — все еще ждет своего воплощения.
И хотя говорят, что История не знает сослагательного наклонения, верно и другое — ничто в копилке национального и общечеловеческого опыта не пропадает зря, не исчезает. Но от наследников и потомков зависит, будут ли востребованы эти, порой запечатленные кровью, ценности…
Первое, что можно и сегодня услышать от людей, вглядывающихся в фотографии Столыпина, — это признание силы, внушительности и обаяния, исходящего от этого человека.
Перед нами — почти идеальный облик государственного мужа; в нем есть и старомосковская дородность, и аристократическая подтянутость, и несомненная «порода», и умная уверенность в себе, и даже некоторое мужское щегольство… Можно представить себе, насколько бывали очарованы внешностью и манерами Столыпина современники. Помещик и земский деятель, депутат Думы от простолыпинской октябристской партии Н.П. Шубинский вспоминал в своих мемориальных заметках о Петре Аркадьевиче: «Когда я впервые увидел П. А. — он уже был премьер-министром; его окрыляла небывалая слава и исключительный успех… Кто, непредубежденный, хотя раз видел в эту эпоху П. А., тот сразу подпадал под неотразимое влияние его личности, не власти, которую он тогда олицетворял, а именно личности, сиявшей каким-то рыцарским благородством, искренностью и прямотой. Ни капли чиновника, царедворца, честолюбца не чувствовалось в нем, хотя он всегда и везде хранил высокое личное достоинство… Лишь временами глаза его сурово загорались предвестниками надвигавшейся бури. Стоило заговорить и о печальных спутниках смуты — убийствах, грабежах, насилиях, поджогах, как равновесие сразу покидало его, вы чувствовали гневные порывы его души. Никто, казалось, больше его не печалился о жертвах ужасов и диких, бессмысленных жестокостях той эпохи.
Высокий ростом, сухощавый, широкоплечий, он был всегда щеголевато одет в костюм английского покроя. Я никогда не видел его ни в мундире, ни в виц-мундире; изредка лишь, в Государственной думе, он бывал в черном обыкновенном сюртуке, выгодно рисовавшем его статную, дышавшую энергией и подвижностью фигуру… Все, что делал он, казалось ему лишь скромным выполнением своего жизненного долга. И это отпечатлевалось на его лице. Умные, выразительные глаза в глубоких орбитах смело смотрели на людей, живо отражая волновавшие или занимавшие его настроения и чувства».
Схожими впечатлениями делится юрист и экономист Аполлон Еропкин: «…Высокий и статный рост; красивое, свежее лицо; открытый серьезный, вдумчивый взгляд немного, чуть-чуть, косящих глаз; и при этом какое-то особое изящество и благородство манер и жестов; такова внешность П.А. Столыпина, которая производила на всех встречавшихся с ним чарующее обаяние».
Не будем забывать, что Столыпин был фактически первым в России публичным политиком столь высокого ранга. Ему первому из государственных сановников пришлось не только вырабатывать и проводить определенную политику (кстати, сам Петр Аркадьевич всегда говорил о «неоднократно выраженной воле Царя», о «реформах Императора Николая Второго»), но и мотивировать свои действия, защищать их, разъяснять в диалоге с Думой и обществом. Столыпин же был первым крупным государственным деятелем, кто понял потенциал СМИ и активно шел на общение с прессой: интервью российским и иностранным корреспондентам составляют весомую часть его наследия.
Премьер России был «человеком стиля» в самом высоком смысле этого слова — его внешность, поведение, весь склад его личности органично сочетались с провозглашаемыми идеями. Известны слова В.В. Розанова: «Что ценили в Столыпине? Я думаю, не программу, а человека; вот этого «воина», вставшего на защиту, в сущности, Руси… На Столыпине не лежало ни одного грязного пятна: вещь страшно редкая и трудная для политического человека. Тихая и застенчивая Русь любила самую фигуру его, самый его образ, духовный и даже, я думаю, физический, как трудолюбивого и чистого провинциального человека, который немного неуклюже и неловко вышел на общерусскую арену и начал «по-провинциальному», по-саратовскому, делать петербургскую работу, всегда запутанную, хитрую и немного нечистоплотную.
Крупно, тяжело ступая, не торопясь, без нервничанья, он шел и шел вперед, как саратовский земледелец с упорною и нерассеянною преданностью России, одной России, до ран и изуродования и самой смерти. Вот эту крепость его пафоса в нем все оценили и ей понесли венки: понесли их благородному, безупречному человеку, которого могли ненавидеть, но и ненавидящие бессильны были оклеветать, загрязнить, даже заподозрить. Ведь ничего подобного никогда не раздалось о нем ни при жизни, ни после смерти; смогли убить, но никто не смог сказать: он был лживый, кривой или своекорыстный человек».
Сегодня, в век всевластия «пиара» — точнее, торжества создаваемого самими пиарщиками мифа об их магическом всевластии, — небесполезно вспомнить, что по-настоящему покоряет души и сердца лишь цельность личности государственного деятеля. А о том, как Столыпин мог покорять, говорит один не до конца проясненный эпизод его биографии (быть может, тот случай, когда «правда мифа» оказывается острее и четче «правды факта»).
23 сентября 1910 года премьер империи, приняв предложение одного из пионеров русской авиации капитана Льва Мациевича, совершил с ним продолжавшийся 5 минут 20 секунд полет на биплане «Фарман» («летающей этажерке») над Комендантским полем в окрестностях Петербурга. А уже через два дня Столыпин беседовал с председателем Государственной думы А.И. Гучковым относительно назначения пенсии семье погибшего летчика Л.М. Мациевича — тот погиб на следующий день после полета с премьером, выпав из кабины.
Легенда рассказывает, что Петр Аркадьевич знал от начальника петербургского охранного отделения полковника Герасимова о том, что Мациевич во время поездки в Париж завербован эсерами с целью убийства председателя Совета министров. Во время маневра с креном пассажир мог «нечаянно» выпасть из аэроплана… Столыпин сказал Герасимову, что не верит, будто русский офицер способен на подлое покушение. Уже в ходе полета благородный авиатор, покоренный мужеством и хладнокровием премьера, отказался от своего, действительно имевшегося, намерения, а на следующий день совершил вынужденное самоубийство в результате приговора эсеров. Столыпин прислал на похороны Мациевича венок с надписью на ленте «Жертве долга и отваги».
Возникшее сразу вслед за событием романтическое предание как нельзя лучше характеризует Столыпина и его эпоху. Да, действительно, расследование показало, что авиакатастрофа произошла вследствие внезапно возникшей поломки. Но летчик в юности был действительно близок к радикалам, играл видную роль в малороссийском националистическом движении. В любом случае садиться в воздухоплавательную машину для главы правительства было весьма опасно по трем причинам — чисто технической, политической и медицинской (Столыпин давно страдал стенокардией, перегрузки были ему противопоказаны). И все же Петр Аркадьевич пошел на это.
Как, не задумываясь, «потребовал удовлетворения», то есть вызвал на дуэль депутата-кадета Ф. И. Родичева, когда тот — человек вообще-то порядочный, — явно заигравшись в оппозиционность, назвал на заседании Думы 17 ноября 1907 года петлю виселицы «столыпинским галстуком». Родичев тогда извинился, Столыпин извинения принял…
Но все же — что означала эта немыслимая для современного политика открытость к смертельному риску? Проявление экстравагантности, странной для семьянина, отца пяти дочерей и сына? Веяние времени, «духа модерна» — эпохи, когда всевозможные дуэли («литературные», «думские», «генеральские») вновь вошли в моду? Или, может быть, родовой фатализм, столь точно описанный в «Герое нашего времени» троюродным братом премьера М.Ю. Лермонтовым?
Думается, что способность осознанно подвергать свою жизнь опасности ради поставленной цели была и частью дворянского воспитания Столыпина, и неотъемлемой составляющей его стиля как политика. В первом из приведенных биографических эпизодов председатель Совета министров подкреплял своим авторитетом технический прогресс России, как бы свидетельствуя: будущее — за русскими «летунами», за покорителями нового; во втором — готов был до конца защищать честь свою и возглавляемого им правительства, достоинство проводимой политики.
Но задумаемся: не была ли сама жизнь и деятельность Столыпина на министерском посту каждодневным риском? И что тогда дало ему силы выстоять в обстановке охоты за ним и его близкими (в мемуарах прожившей сто лет дочери премьера Марии фон Бок описывается, как через нее, тогдашнюю девушку-подростка, пытались подобраться к отцу)?.. Ответ начертан на родовом гербе Столыпиных — «Богу моя надежда».
Из всех свидетельств «христианского стоицизма» Петра Аркадьевича приведем одно, выделяющееся своей документальной достоверностью. Мыслитель Л. Тихомиров, служивший тогда чиновником по делам печати, побывал у Столыпина 2 декабря 1907 года и по возвращении домой оставил такую запись в дневнике: «Он верит в Бога, он имеет уверенность, «мистическую» уверенность, что Россия воскреснет. Он — русский, любит Россию кровно и живет для нее. На себя он смотрит как почти на не живущего на свете: каждую минуту его ждет смерть. Но знает и уверен, что сделает то, что угодно допустить Богу».
О Столыпине много писали как о «рыцарском характере»: «не век сюртука, а отдаленная эпоха лат и кольчуг выработала эти задатки»! Рыцарь — да, но без «донкихотства»! Духовная сила и личное благородство Столыпина работали на решение вполне прагматических задач. И он был, в конце концов, успешный политик, успевший увидеть воплощение своих замыслов и, по милости Божией, не доживший до их разрушения вместе с той Россией, которую он любил.
В последнем письме жене, за несколько дней до смертельного ранения, Петр Аркадьевич передает атмосферу всеобщего восторженного признания, сопровождавшую его: «Их больше 200 человек — магнаты, средние дворяне и крестьяне. Я сказал им маленькую речь. Мне отвечали представители всех 6 губерний. Мое впечатление — общая, заражающая приподнятость, граничащая с энтузиазмом. Факт, и несомненный, что нашлись люди, настоящие, русские люди, которые откликнулись и пошли с воодушевлением на работу. Это отрицали и левые, и крайне правые. Меня вела моя вера, а теперь и слепые прозрели».
Василию Розанову принадлежит замечательное свидетельство о Столыпине: «Революция при нем стала одолеваться морально, и одолеваться в мнении и сознании всего общества, массы его, вне «партий». И достигнуто было это не искусством его, а тем, что он был вполне порядочный человек. Притом — всем видно и для всякого бесспорно. Этим одним».
Революция проявляла себя прежде всего как нравственное разложение, которое шло из «образованного общества» в народ. Нам порой трудно сегодня различить за вуалью Серебряного века жутковатый облик тотального духовного омертвения. Но надо отчетливо представлять себе: русская интеллигенция массово морально коллаборировала с террористами, так или иначе оправдывая тот «кровавый бред» (выражение П.А. Столыпина), который разливался по стране.
Вот характернейший документ: письмо А.А. Блока В.В. Розанову от 20 февраля 1909 года. Василий Васильевич в одной статье обмолвился, что для него «революция так же противна, как сабли наголо и жандармы». Автор «Стихов о Прекрасной Даме» спешит отмежеваться: «Как человек, я содрогнусь при известии об убийстве любого из вреднейших государственных животных, будь то Плеве, Трепов или Игнатьев [ко време- ни написания письма первый и третий были убиты, второй — умер]. И, однако, так сильно озлобление (коллективное) и так чудовищно неравенство положений — что я действительно не осужу террора сейчас… Как осужу я террор, когда вижу ясно, как при свете огромного тропического солнца, что… революционеры, о которых стоит говорить (а таких — десятки), убивают, как истинные герои, с сиянием мученической правды на лице, без малейшей корысти, без малейшей надежды на спасение от пыток, каторги и казни» и т. п.
В конце опуса, который сам автор готовил к публикации, у Блока есть характерная проговорка: он пишет о «временно помутившихся взорах русских мужиков». Это «помутнение» — а вернее, просветление и отрезвление взоров многомиллионной крестьянской России — и было коренным результатом столыпинской работы. Первая русская революция, которую сумел погасить Столыпин, была поистине всеобщей смутой, а вторая и третья, несмотря на их катастрофические последствия, остались в истории заговором, помноженным на бунт (февраль), и переворотом (октябрь).
Одоление революции и революционного интернационала — нравственная и культурная борьба. И ее Столыпин не проиграл!
Все реформы и преобразования, вся правительственная работа понимались и рассматривались Столыпиным сквозь призму не столько экономической целесообразности и классовых интересов, сколько культуры — в современном, всеобъемлющем смысле. Знаменитая аграрная реформа, по словам премьера, была нацелена на то, что «мелкий земельный собственник, трудолюбивый, обладающий чувством собственного достоинства, внесет в деревню и культуру, и просвещение, и порядок». Решая геополитические, оборонные и т. п. задачи, председатель правительства всегда подчеркивал, что те или иные меры необходимы не сами по себе, а для прикрытия той грандиозной культурной работы, которую ведет Россия на пространствах континента. Отстаивание державных прав российской государственности в Финляндии, в Западном крае он воспринимал тоже как культурную борьбу.
Его «Большой стиль» сам по себе был типом политической культуры, не признающей недомолвок и полуправды, основанной на религиозных ценностях, но при этом устремленной в будущее и открытой к вызовам времени. Это был подлинный синтез традиции и инновации. Основные принципы своей программы Столыпин называл многократно, в речи от 16 ноября 1907 года он свел их к трем тезисам: «неуклонная приверженность к русским историческим началам; страстное желание обновить, просветить и возвеличить родину; наконец, преданность не на жизнь, а на смерть Царю, олицетворяющему Россию».
Нет ничего нелепее, чем представлять Столыпина реакционером. С думской трибуны он подчеркивал, что меры правительства «знаменуют собой не реакцию, а порядок, необходимый для развития самых широких реформ». В документе внутреннего пользования — замечаниях по записке группы крайне правой Государственного совета — Петр Аркадьевич твердо выражает свое кредо: «Реформы во время революции необходимы, так как революцию породили в большой мере недостатки внутреннего уклада». Эта записка, по сути призывающая правительство «смело стать во главе реформ», — своего рода политическое завещание Столыпина.
Волевое, сильное, национально и исторически ответственное, нравственно ориентированное реформаторство — это и есть наследие столыпинского стиля, как никогда более явственно востребованное сегодняшней Россией.
«Свой»