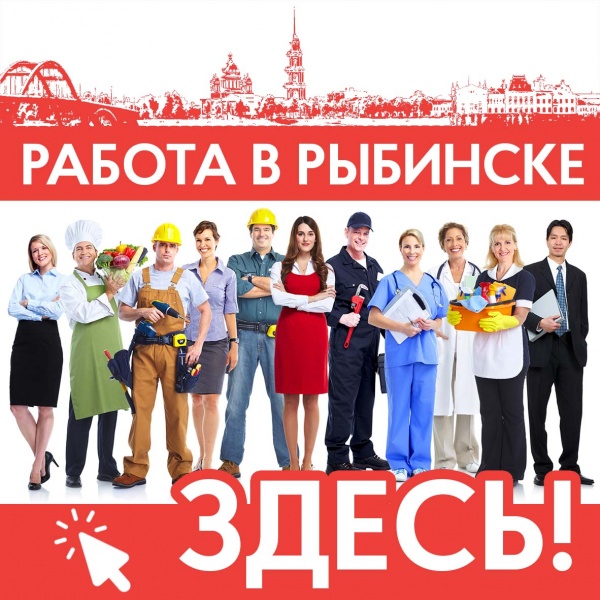Голос свободы в режиме «моно»
В драмтеатре режиссер Антон Неробов поставил пронзительный спектакль «Чемодан» по книгам Сергея Довлатова
Перед входом в зрительный зал женщина-билетерша сразу предупреждает: «На первом ряду сидят куклы, вы их не трогайте, они участвуют в спектакле».
Ловлю себя на мысли, что чего-то в этом роде (в смысле — необычного) я ожидала от нового творения Антона Неробова — пожалуй, главного экспериментатора и нонконформиста на ярославских подмостках. Проходим в зал, стулья для зрителей в несколько рядов расставлены прямо на сцене.
Кое-где на них действительно сидят большие, почти в человеческий рост, фигуры — белые и безликие. И вот, когда народ занял места и интеллигентно отключил сотовые, на сцену влетает герой моноспектакля, точнее — его зашвыривает какая-то неведомая сила. Это, разумеется, Сергей Довлатов (актер Владимир Калюкин). Влетая, он рушит пирамиду из чемоданов. Общим числом с десяток.
К слову, собирали их специально к постановке и к тому же весьма оригинальным способом: по друзьям, знакомым, по объявлению. Будто следуя абсурдистской логике довлатовских рассказов, откуда только ни доставали поклонники Мельпомены старомодных фанерных гигантов с железными уголками: и с антресолей, и даже со свалок. В общем, добывали реквизит всем миром. Но отнюдь не только поэтому спектакль получился таким «народным».
Антона Неробова вообще отличает широта взгляда: «Каждое поколение хочет представить своего героя. Шекспир — Гамлета, Лермонтов — «героя нашего времени», Тиль в Средневековье… Кто герой нашего времени? Мне кажется, что Довлатов. Однако это странный герой. Он не совершает подвигов, выпивает, хочет, чтобы его оставили в покое, но при этом никому не хамит, не идет по головам, не совершает подлостей и относится ко всем по-человечески. Случись война — он первый пойдет на амбразуру».
Однако вместо театра военных действий мы с главным героем оказываемся в тюремной камере. Кстати, у самого Довлатова этого нет. В автобиографических «Чемодане» и «Заповеднике», составивших литературную основу спектакля, повествование ведется из эмиграции — из США. Помещая нас (да-да, и зрителей, конечно, тоже) за решетку, режиссер без лишних церемоний подбирается к самому воспаленному нерву довлатовской «псевдодокументалистики» — нерву свободы. Ну где еще, как не в казенном доме, он может заявить о себе с такой нестерпимой настойчивостью?
Металлический голос из ниоткуда приказывает задержанному раздеться, в смысле — ремень, шнурки и так далее. С каждой вещью у Довлатова связана история из жизни: и с офицерской пряжкой, и с креповыми финскими носками, и с номенклатурными ботинками, и с шапкой из фальшивого котика. По мере того как герой расстается с вещами, он постепенно, рассказ за рассказом, обнажает сокровенный мир своих мыслей и чувств. Это «стриптиз души», подсказывает Антон Неробов. Занятие не из легких. Сидя всего в двух метрах от актера, мы хорошо видим: майка на нем ко второму действию мокрая насквозь.
«Чемодан» заряжен потрясающей внутренней динамикой, словно разгоняется под гору. Армейские байки в духе Гришковца в самом начале сменяются эпизодом бегства жены за рубеж (это уже личная драма), чтобы потом обрести едва ли не политическое звучание в сцене со следователем КГБ, олицетворяющем всю Систему. Вот она — «неведомая сила», что в начале спектакля швырнула героя под ноги зрителям.
Символично, что, помимо самого Довлатова, только двух героев — жену Лену и кгбшника — играют актеры (Мария Сельчихина и Владимир Ершов). Остальные партии достались тем самым безликим куклам — их можно не брать всерьез, игнорировать, даже манипулировать ими. Они не имеют своего голоса, Владимир Калюкин один говорит за всех многочисленных персонажей.
Но это не значит, что они лишены индивидуальности: актер маркирует (и, кстати, очень мастерски это делает!) речь и манеры каждого из них парой-тройкой ярких мазков. Все это сопровождается живым общением с залом, а следовательно, — импровизацией. Эффект сопричастности к сценическому действию ощутим до мурашек. Смешно, страшно, жалко, снова смешно и снова грустно…
Пространство спектакля сплошь метафорично — излюбленный сценический прием режиссера. Чемодан из предмета реквизита вырастает у него до емкого, щетинящегося смыслами образа. В нем — и бесцельное, «метафизическое» русское воровство, и фарцовка, и неустроенность холостяцкого быта. В одном чемодане между портретом Маркса на дне и Бродского на крышке помещается вся жизнь эмигранта — «пропащая, бесценная, единственная». А. Неробов идет еще дальше, укладывая туда целую эпоху.
В финале сцена начинает вращаться, и перед нашими глазами проносится целый поезд из чемоданов с портретами тех, кого «выдавили» из страны: Ростропович, Аксенов, Галич, Барышников, Сахаров… И все это на фоне исторического граффити с Берлинской стены: знаменитого поцелуя Брежнева и Хонеккера. «Господи, помоги мне выжить среди этой смертной любви!» — гласит слоган под ним. Этой смертной любви, среди которой неволя и воля, Родина и государство близки не больше, чем… Союз и Америка.