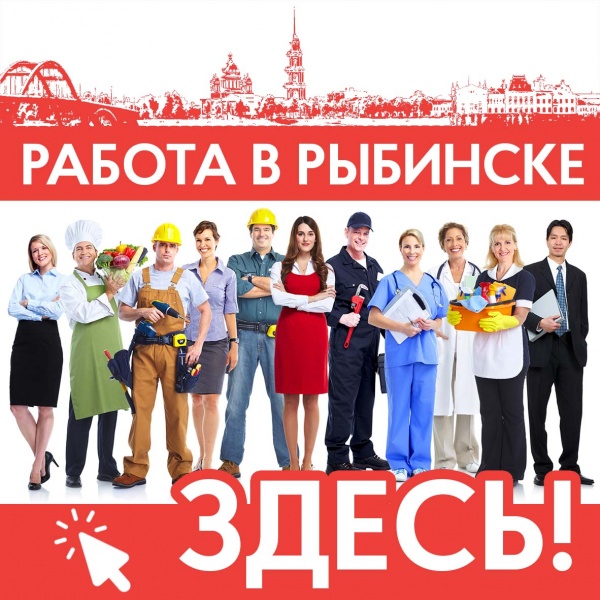Мимо Сталина бегом, догоняя Парад Победы
Воспоминания жительницы Рыбинска Александры Левашовой, ветерана трудового фронта
В начале мая каждого года она получает поздравление от Президента. Как участница трудового фронта. Стандартное, на типографском бланке. Вроде участница войны, но в то же время — ее тыльной стороны. Вроде и победительница, но условно — с допущением. Вроде — личное, но в то же время и обезличенное, в числе многих и многих тысяч. Как «капля, льющаяся с массами».
Но и она, и те самые тысячи женщин, принадлежавших к военному поколению, имеют все-таки «лицa не общее выражение». И, наверное, требуют к себе особого отношения. Хотя бы потому, что вслед за ветеранами войны потихоньку уходят последние живые свидетели той страшной и жертвенной эпохи…
Как бы ни была тяжела жизнь Шуры Левашовой в первые годы войны, но она была спокойной и предсказуемой. Утром успевала позавтракать. Пища была скудной, но кто в то время питался сытно?
Потом отправлялась пешком с ул. Свободы в свое ремесленное училище при Полиграфзаводе. В два часа дня возвращалась, но ненадолго. Обедала и опять за Черемуху: то на учебу по безопасности, то на субботник, а то к маме на пекарню.
Но вот осенним утром 1943 года война постучалась и в ее дом. Нет, речь не шла о призыве на фронт, в ряды защитников Отечества. Это была мобилизация в ряды участников трудового фронта.
Лейтенант из Рыбинского военкомата, явившись однажды утром в училище, объявил о том, что все они, учащиеся, мобилизуются в Москву для работы на предприятиях города.
Скорые сборы, слезы расставания. У вокзала стоит эшелон с вагонами-телятниками. На перроне — заспанные и напуганные близкой неизвестностью парни и девчата 14-15 лет. Шура не одна, вместе с ней едут подруги: Люся Сабурова, Маша Виноградова, Лиза Сереброва, Нина Чекатина, Люся Александрова.
Есть и знакомые мальчишки. В мирное время, вне училища большинство из них — сорвиголовы — отчаянные, неукротимые.
Но как только состав тронулся, стали похожи на птенцов, выпавших из гнезда. В глазах — растерянность и тоска…
Если сегодня поезда до Москвы из Рыбинска идут 8-9 часов, то тогда, в 43-м, эшелон с молодыми трудфронтовцами добирался трое суток. Бесконечные остановки в ожидании литерных составов, а то — из-за бомбежек.
Однажды эшелон остановили прямо у вокзала, который бомбили немецкие бомбардировщики. Чуть ли не пинками стали выгонять из вагонов. Плач и крики. Добежать до надежного укрытия не давали, да и времени не было. Так и плюхались в клумбы, в лужи вниз лицом, кверху попами.
Когда опасность миновала, расселись по вагонам. Объявили перекличку. И тут оказалось, что несколько мальчишек то ли из страха, то ли из озорства совершили побег. Как потом рассказали старшие, их всех переловили и наказали жестоко — по законам военного времени: 8 лет лагерей каждому.
В Москве ночью на Белорусском вокзале молодежь выстроили в восемь колонн и пешком направили в район ВДНХ. Здесь и предстояло им трудиться. В бывших выставочных павильонах были установлены станки вдоль стен. На этих станках они и проработали до 1946 года — обеспечивая фронт необходимой военной продукцией.
Получали пайки по талонам: махорку, яичный порошок, позже — американскую тушенку, казавшуюся необыкновенно вкусной, 300 граммов хлеба. Бывало, что и сгущенку давали, масло. Но чувство голода при таких нагрузках обмануть все равно не удавалось. Поэтому сдавали кровь. Да так преуспели, что подруга Люся однажды упала в обморок, а Шуре врач заявил: «Левашова, тебе самой надо кровь вливать, помрешь ведь».
Было время — жили в бараках. Зимой, чтобы было тепло, каждая из обитателей барака тащила с собой резиновые танковые траки. От них шел густой черный дым, собиравшийся в облака. Из него выпадали крупные черные хлопья- «снежинки», которые оседали на всем: тумбочках, кроватях.
Когда уже жила и работала в Балашихе, рядом разместился лагерь военнопленных. Он был огорожен колючей проволокой. По углам — вышки с часовыми. Пленные жили хорошо, сытно в своем лагере. Сажали картофель, овощи.
Потом, когда режим стал чуть свободнее, пошли контакты. Пленные на ломаном русском языке предлагали русским девушкам наведываться на их огороды.
Они так и делали. Ночью двое-трое по-пластунски подбирались к колючей проволоке. Одна аккуратно поднимала край проволоки, вторая подползала под нее, и под светом прожекторов и автоматами охранников на вышках голыми руками сдирая ногти, вгрызалась в твердую почву в поисках клубней.
Часовые на вышках могли запросто их полить свинцом из автоматов. Но обходилось.
А еще немцы играли на губных гармошках и пытались крутить любовь с симпатичными русскими девушками. У кого-то получалось. Даже поговаривали о замужестве.
То главное утро ее юности — 9 мая 1945 года — было солнечным и холодным. Москва была расцвечена фейерверком, салютом. Рано утром их всех, юных тружениц, подняли, привели к столовой, дали усиленный паек и отправили на Поклонную гору — место сбора перед парадом.
А потом по команде «бегом» колонну направили к Красной площади. Ошалелые от стольких радостей сразу, они на ходу и ревели, и смеялись, и обнимали друг друга.
У Красной площади колонну затормозили. Стал накрапывать дождь. Они слышали впереди гул танковых двигателей, крики «ура!» А потом под команду «быстрей!», «бегом!» выбежали на Красную площадь. Справа — на Мавзолее — хорошо были видны Сталин, Молотов и другие дорогие сердцу вожди и вершители судеб.
Натыкаясь друг на друга, стараясь выхватить хотя бы краем глаза лица вождей, они так и просеменили через всю Красную площадь, пока не выбежали из нее, из военного детства своего, да и из войны тоже.
Их колонна была последней. Шуре казалось, что она — последняя в колонне. Что это она ставит точку в этой ужасной войне. Она шептала какие-то слова, даже не понимая, что именно она шепчет: «Пусть она закончится. Пусть никогда не вернется».
Владимир Рябой