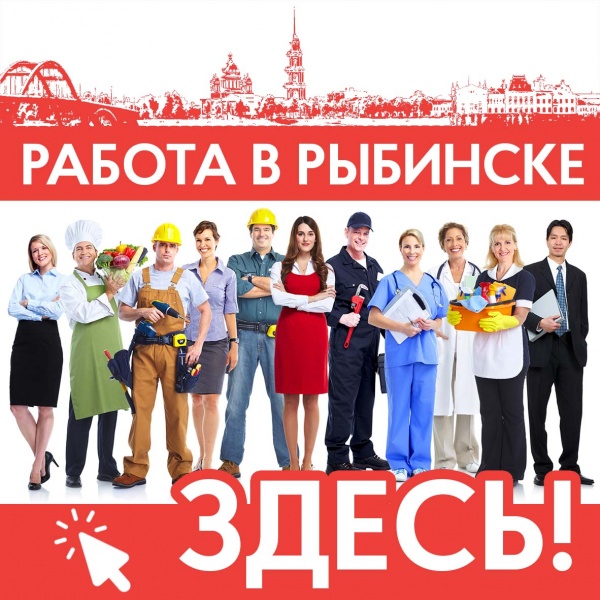Детство, проведенное на мякине
«Найдем корку хлеба, я Венке даю, а сама думаю: много откусил», — Елена Матвеевна Фомичева отворачивается и комкает в руке полы халата. Младшего брата Вениамина давно нет в живых, отчего эти воспоминания для 80-летней пенсионерки особо мучительны. Но тогда ей было 11, и была война
Родилась Елена Матвеевна в Сибири, в маленькой деревне Красноярского края. Когда ей было шесть, родители развелись. Отец – суровый и резкий мужик — «поделил» детей, оставив дочь себе. Жизнь с мачехой, тяжелая работа по хозяйству, необустроенный деревенский быт мало способствовали счастливому беззаботному детству. Но с началом войны кончилось и такое. Весть о нападении фашистской Германии сибирякам пришла с неба.
«Мы бегали детьми по лесоучастку, смотрим — двукрылый самолет кружится над кустами низко-низко. Вдруг видим, что-то белое на землю упало. Это было извещение, из которого мы узнали, что началась война», — вздыхает Елена Матвеевна.
Отец, уходя на фронт, велел жене: «Ленку к родной матери отправь». Осенью 1941-го ее забрала бабушка и перевезла в Красноярск, где жил младший брат Вениамин. Мать Елены Матвеевны дома почти не появлялась, месяцами работая в тайге то на заготовке дров, то черемши, которую солили и отправляли на фронт как средство от цинги.
За 11-летней Леной и 6-летним Венкой приглядывала баба Анна. Чтобы прокормить внуков, она продавала из дома ценные вещи или меняла их на еду. Первое время они кое-как перебивались, девочка даже ходила в школу. Но когда в Красноярск, который считался глубоким тылом, стали привозить эвакуированных, цены на продукты взлетели. Начался голод.
«Досыта мы больше не ели. Мяли боярку (плоды боярышника – прим. автора), медуницу, черемшу. Иногда баба Анна приносила картошку и длинную белую редьку. Тянули их, сколько могли. Недалеко была деревня, мы туда к местным ребятишкам бегали. У них бабушка была в возрасте 117 лет. Она на коленочках ходила: скатится под гору, травы нарвет, поест и обратно ползет», — рассказывает Елена Матвеевна о своей сибирской «блокаде». В школу она больше не ходила. Не в чем было.
В 43-м умерла баба Анна. «Она не ела почти ничего, все, что приносила, нам отдавала. Так мы остались одни», — качает головой пожилая женщина. Ее мать все так же трудилась во имя Победы, не имея возможности жить дома с детьми. Заботы о младшем брате полностью легли на худые плечи девочки-подростка. Работы не было, денег и еды тоже.
Однажды, вспоминает Елена Матвеевна, кто-то забрался к ним в дом и украл хлебные карточки — единственный шанс на гарантированный кусок. Целыми днями брат с сестрой, вшивые, босиком, в заношенных рубахах, слонялись по городу в поисках случайной корки хлеба. Караулили машины у хлебозавода, ждали, когда ее загрузят, чтобы потом подобрать с земли крошки. И каждый раз девочка внимательно смотрела, сколько съел Венка…
Летом рвали турнепс, посаженный для скота. Осенью ходили на колхозные поля собирать картошку, пропущенную при уборке. Весной выискивали ее же, но уже гнилую и мороженую. «Мяли и прямо сырую на печку клали. Она запечется, есть можно. Только нашатырем очень пахнет», — до сих пор помнит запах этих лепешек Елена Фомичева.
Однажды детей с полными тряпичными сумками картошки поймал колхозный объездчик. «Воришки, наглецы! Как не стыдно солдат объедать!» — ругал их мужчина, толкая в спины по пути к конторе. Приехал председатель: «Показывайте, что там у вас!» Брат с сестрой раскрыли сумки и показали картофель, который, по их заверениям, они не выкапывали, а собирали с земли. Овощи оказались чистыми и морожеными.
«Колхозники посадили картошку и проборонили поле, ее зубцами всю наверх и выгребло, а мы собрали. Председатель нам спасибо сказал, сумки отдал, а работников послал пересаживать. Если бы она в земле росла, да неужто мы осмелились бы ее тронуть! Знали же, что на фронт надо, а нас чуть было ворами не сделали», — вспоминает детскую обиду от взрослой несправедливости Елена Матвеевна. По ее словам, даже голод не мог заставить детей идти на преступление.
Совсем худо было зимой. Ни теплой одежды, ни обуви. «Венка привязывал себе коньки-снегурочки веревками прямо к голым ногам. Выскочит на улицу, скатится с горки разочек — и бегом домой. Ей-богу, не вру», — клянется ребенок войны.
В 1943 году Сталин разрешил открыть церкви. В Пасху к маленькой красноярской часовне, доселе служившей цехом для изготовления ложек, потянулись жители неверующей страны.
«Мы взяли молитвенники и иконы бабы Анны и понесли их в церковь. В храме теснота, не пошевелиться, а народ все идет и идет. Детей так прижали, что священникам пришлось выводить нас через другой вход.
Мы с Венкой, босые, в драных пальтишках, встали на пригорке у кладбища и милостыню просим. Тетенька одна ко мне подошла, посмотрела и говорит: «Ты молиться хоть умеешь?» — «Нет», — отвечаю. «У меня дочка такая, как ты, померла, помолись за нее». Женщина научила, что мне сказать надо, и протянула тапочки этой девочки, из шинели сшитые. Я их сразу надела, а земля еще не оттаяла, они тут же промокли, но я такая счастливая была! Напобирались мы тогда досыта. Кто каши ложку дал, кто яйцо сунул, кто кусок хлеба», — вспоминает «сытый» день Елена Матвеевна.
О победе 15-летняя девочка, выглядевшая, как 10-летний мальчик, узнала из радиоэфира. Радость была и от того, что все закончилось, и от того, что удалось дожить до этого момента. Жив остался и отец. Матвей Родионович прошел всю войну с армией Жукова. Любил шутить потом, что он с маршалом Берлин делил. В 1945 году родитель вновь забрал дочь от матери и разлучил ее с братом. Впереди были тяжелые годы возвращения к мирной жизни, каторжная работа в лесхозе, нищета, попреки со стороны очередной мачехи.
Теперь, оборачиваясь назад, она вспоминает, как против желания отца пошла учиться. Как ехала за расчетом в контору на лошади. Животное было забито трелевщиками в погоне за планом очередной пятилетки до такой степени, что в прямом смысле слова валилось с ног от усталости, еле передвигая копыта. Как на ней самой вместо сапог были одни голенища, которые она утопила в Енисее, едва купив с зарплаты первые в жизни туфли. Как не узнала ее родная мать, которую она отыскала спустя несколько лет после войны.
Как встретила в Сибири своего мужа и переехала вместе с ним в Ярославскую область. Как через семь лет после замужества беременная вторым ребенком узнала, что законный супруг, пропавший куда-то на месяц, женится. Как приехала посмотреть на свадьбу в микрорайон Слип, спугнув у невесты «жениха». Как сообщила отцу в конце 70-х, что умер Венка. Как затем перевезла родителя к себе в поселок Каменники. Он страдал от полученной на войне контузии и стал не нужен еще молодой мачехе. Как ухаживала за ним после ампутации ноги. Как взяла на себя заботы о престарелой матери, отдельно от которой прожила полжизни. Дочь, не шибко избалованная родительской любовью и лаской, стала единственным человеком, кто не бросил их в старости.
Я помню своего прадеда. Суровый и резкий, он часто прикрикивал на меня, раздражаясь от шумной детской возни. А я в отместку крала у него костыли, когда он, поднимаясь на пятый этаж, останавливался передохнуть на третьем. Дети бывают изощренно жестоки, а молодость невнимательна.
Сейчас, рассматривая орден Великой Отечественной, медали «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», многочисленные юбилейные знаки прадеда, я понимаю, что он прошел героический путь. Но разве о жизни моей бабушки и ее сверстников, о детях войны, которые восстановили то, что удалось сохранить, нельзя сказать то же самое?