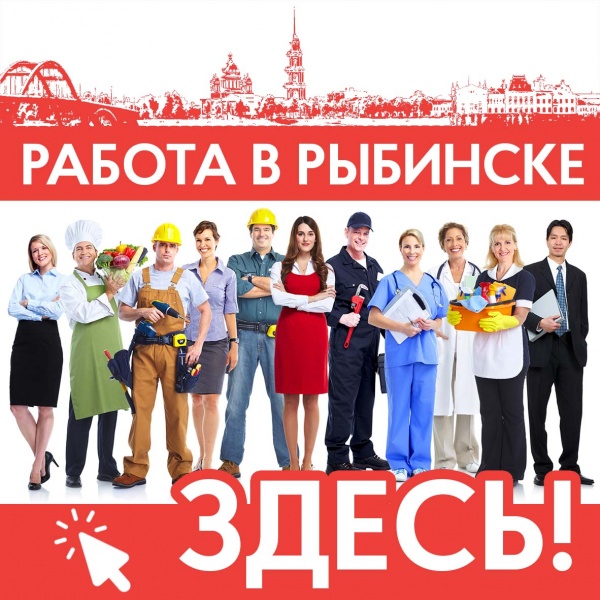Радость жизни и легкий цинизм
В Третьяковской галерее открылась выставка Бориса Григорьева, самого понятного из всех классиков ХХ века
Родиться в Москве, жить в Рыбинске, умереть неподалеку от Ниццы. Побывать профессором в Сантьяго, деканом в Нью-Йорке, избежать репрессий. Рисовать Мейерхольда и Шаляпина и сделать коллективный портрет родины с лишенным пиетета названием «Расея». Неплохая биография для талантливого художника. А Борис Григорьев (1886-1939) был талантлив. Может быть, даже слишком. Точеный рисунок, эффектные композиции, доступный художественный язык и та неуловимая смесь радости жизни и легкого цинизма, что привлекает в творческом человеке…
150 картин и рисунков на выставке в Инженерном корпусе Третьяковской галереи впечатлят и сегодня. Третьяковка показывает работы из российских музеев и частных коллекций, в том числе зарубежных, почти всю графику Григорьева из своих запасников (ее не было в Петербурге, где выставка шла летом и где Русский музей выставлял свою графику) и три из пяти принадлежащих ей картин художника. Еще одна в плохом состоянии, другая — неинтересна.
Григорьев всю жизнь оставался реалистом, но специфического уклона, с заостренными формами и отстраненным взглядом на мир. В 1913 году он участвует в выставке «Мира искусства», став, судя по картинам, завсегдатаем театров, цирков и кабаре. К 1916-му, когда Григорьева забаллотируют при выборе в члены «Мира искусства», он уже популярен как портретист. Правда, удач, как с портретами Велимира Хлебникова или гротескным портретом Мейерхольда, в итоге оказалось немного. То ли дело наброски! Среди рисунков первого зала — «Ларионов слушает Качалова» (1922), в нем больше жизни, чем во многих послевоенных полотнах, где Григорьев всеяден, цитируя всех сразу — от Ван Гога до Шагала. «Марсельская шлюха» (1923) напоминает «новую вещественность», но это не выбор стиля, но лишь игра в него. Так и положено салонному портретисту, в путешествиях по Южной Америке делающему для себя аморфные зарисовки.
Григорьев блестяще владел техникой, но часто был равнодушен к личности изображаемого. Даже собственную жену с ребенком запечатлел на редкость холодно (три картины на детские темы 1915-1918 годов в Инженерном корпусе разместили на одной стене; в целом дизайн московской выставки лучше петербургской). Впрочем, однажды отстраненность дала поразительный результат. В цикле «Расея», частично показываемом и в Москве, Григорьев изобразил страну, которую мало кто хотел знать. Ироничным, порой недобрым взглядом он подметил что-то существенное в том, что банализируется понятием «русская душа». Это раздражало. Меценат князь Сергей Щербатов назвал «Расею» «оскорбительной для русского сознания». Но искусство не может оскорблять. Оскорблением может быть лишь сама жизнь, ее обстоятельства и условия.
Всерьез вглядываться в действительность трудно, это требует мужества. Григорьева хватило ненадолго, но результат очевиден: без «Расеи» нельзя представить себе русского искусства ХХ века. Все остальное — к вопросу о личных качествах, мало интересных истории, но всегда важных биографу.
Салонность — не порок, отсутствие идеологии — не преступление. В начале века время само стремилось сделать выбор за человека. У него оставалось право не согласиться с этим выбором. Григорьев согласился. Как выяснилось, зря.
«Известия»